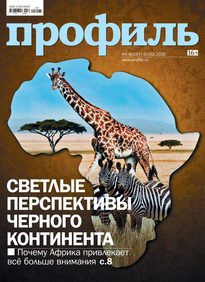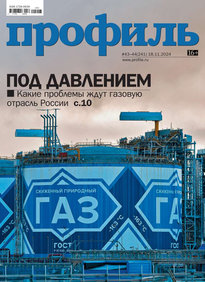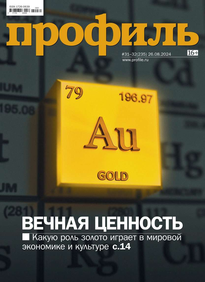«В жизни китайского народа произошел великий взлет: он встал на ноги, зажил лучшей жизнью и превращается во все более сильную и могучую нацию. Вот уже двадцать лет подряд обеспечивается богатый урожай зерновых; из года в год устанавливаются новые рекорды в реализации программы исследования Луны, полностью завершен проект китайской орбитальной станции». Этими словами начинается редакционная статья пропагандистского журнала «Китай», посвященная успехам, достигнутым КНР за 75 лет своего существования.
Действительно, успехи в космосе, с точки зрения китайского руководства, стоят в одном ряду с победой над бедностью и обеспечением продовольственной безопасности и служат наглядным свидетельством эффективности «китайской модели развития».
Китай включился в космическую гонку позже СССР и США, но именно его программа развивается наиболее динамично. За короткий срок КНР успела догнать, а в отдельных аспектах и перегнать нашу страну. Это вкупе с амбициозными планами китайцев по дальнейшему развитию своей космической программы выводит соперничество Пекина и Вашингтона на поистине межпланетный уровень. Не исключено, что для историков будущего именно этот сюжет станет центральным для всей середины ХХI века.
Покорение Великой Пустоты
В России их называют «космонавты», в Америке – «астронавты», а в Китае – «тайконавты». Это забавное словечко образовано от китайского термина taikong (по правилам читается как тайкун), то есть космос, дословно – «Великая Пустота». Мечты о покорении Великой Пустоты известны в Китае еще с глубокой древности, если вспомнить, например, легенду о богине Чанъэ, которая перелетела на Луну, испив эликсира бессмертия.
Впрочем, научная фантастика в современном понимании этого слова появляется в Китае только в начале ХХ века. А реальная работа на пути в космос запускается лишь в середине 1950-х, причем благодаря помощи Советского Союза.
Любопытно, что отцом китайской космонавтики стал человек, связанный не с СССР, а с Америкой. Это Цянь Сюэсэнь, китаец, в 1930-е уехавший в Штаты на учебу и вскоре влившийся в ряды передовых инженеров и конструкторов, занимавшихся в 1940-х исследованиями в области реактивного движения. После начала холодной войны он стал объектом травли со стороны ФБР, подозревавшего китайца (американское гражданство он так и не получил) в связях с коммунистами. Ученый был отстранен от научной работы, посажен под домашний арест, после чего запросился на родину, да не на Тайвань, где никаких условий для научной работы не было, а в КНР, где вслед за Советским Союзом начали развивать свою космическую программу.
Вернувшись в Китай, Цянь Сюэсэнь с ходу возглавил специально созданную полусекретную «Пятую академию» Министерства обороны КНР, которая отвечала как за атомный, так и за космический проект. Большая часть подопечных Цяня была связана с СССР, где ковались китайские научно-технические кадры. Но вскоре китайцам пришлось рассчитывать только на себя – после советско-китайского раскола рубежа 1950–1960-х годов любые научные и образовательные обмены со «старшим братом» прекратились.
Впрочем, необходимый задел был уже создан, поэтому в середине 1960-х появились первые результаты. В 1964–1965 годах были запущены ракеты с мышами на борту, а в 1966-м китайцы отправили в космос собаку. Первопроходцем Великой Пустоты стал кобель по кличке Сяобао («Маленький леопард»).
В Китае к тому моменту началась печально известная «культурная революция», поставившая страну на грань полного хаоса. Но ученые и конструкторы в закрытых военных городках ее попросту не заметили. Они продолжали свои исследования под надежной охраной элитных подразделений НОАК. Правда, изучение идей Мао Цзэдуна все равно входило в число каждодневных обязанностей, а сама космонавтика была призвана служить не столько науке, сколько пропаганде маоизма.
Так, первый запущенный спутник (это случилось в 1970 году) получил революционное название «Дунфанхун», что значит «Алеет Восток» и отсылает к популярной песне, славящей мудрое руководство Председателя Мао. Более того, спутник не бесцельно крутился вокруг Земли, а транслировал на всю Вселенную: «Алеет Восток, солнце встает, в Китае появился Мао Цзэдун».
На орбиту спутник вывела ракета «Чанчжэн» (то есть «Великий Поход»), названная так в честь одного из центральных событий китайской Гражданской войны. Благодаря этому запуску Китай стал пятой в мире космической державой после СССР, США, Франции и Японии.
Развивалась и программа создания пилотируемого космического корабля, получившая название «Шугуан» («Заря»), но в середине 1970-х ее пришлось свернуть. Все-таки годы социально-экономических экспериментов Мао Цзэдуна не прошли бесследно, и страна была обессилена. Да, главные прорывы что в ядерной, что в космической сфере произошли во времена «культурной революции», но, после того как период перенапряжения всех ресурсов прошел, о каких-либо достижениях в науке и технике пришлось надолго забыть.
Новое дыхание у космической программы КНР открылось в 1990-е, что во многом было связано с распадом СССР и получением доступа к советским технологиям (где-то с помощью промышленного шпионажа, где-то благодаря сотрудничеству с доставшимся независимой Украине «Южмашем»). А главное – вслед за экономическими успехами вернулась и потребность с помощью достижений в космонавтике укреплять национальный престиж.
Поэтому на смену революционным названиям пришли новые, связанные с традиционной китайской культурой и мифологией. Главный проект китайской космонавтики был назван «Шэньчжоу» («Священная ладья»). На его начальной стадии, в 2003 году, Китай осуществил свой первый запуск пилотируемого космического корабля. Таким образом, КНР стала третьей после России и США страной, записавшей себе в актив такое достижение. Первым в истории тайконавтом стал 38-летний полковник НОАК Ян Ливэй.
На втором этапе программы «Шэньчжоу», пришедшемся на 2010-е, китайцы начали успешно осуществлять выходы в открытый космос, попрактиковались с выводом на орбиту космических модулей и стыковкой с ними космических кораблей.
На третьем этапе Китай приступил к созданию постоянно действующей орбитальной станции. В 2021 году на орбиту был выведен ее базовый модуль, получивший название «Тяньхэ» («Небесная гармония»). А уже в конце 2022-го китайские тайконавты отрапортовали руководству страны о том, что космическая станция «Тяньгун» («Небесный дворец») полностью укомплектована, выведена на орбиту и готова к использованию.
«Тяньгун» стала третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией после «Мира» и МКС. Предполагается, что она пробудет на орбите до 2038 года. Станция значительно меньше, чем «Мир» и МКС, но на ней могут находиться до шести человек одновременно (во время пересменок экипажей так и происходит).
В плановом же режиме в «Небесном дворце» работают три тайконавта. Все, естественно, военнослужащие Народно-освободительной армии Китая и члены Коммунистической партии (КПК). Поскольку Устав КПК предполагает, что первичные парторганизации должны создаваться в любом месте, где одновременно находится не менее трех членов партии, персонал станции «Тяньгун» составил первую в истории нашей галактики космическую ячейку коммунистов.
Достижение Великого Предела
Есть и другие параллели между хроникой китайской космической программы и советской фантастикой середины ХХ века. И вообще не покидает ощущение: космические успехи социалистического Китая – это ровно то, что делал бы Советский Союз, сложись его судьба иначе.
И так же, как в СССР, одна из главных целей китайской космонавтики – демонстрация преимуществ своей экономической и социально-политической модели. Впрочем, для того чтобы утвердиться в статусе космической сверхдержавы, китайцам нужен эксклюзивный прорыв. Такой, как полет Гагарина для СССР или высадка Армстронга на Луну для американцев. Ближайшая и наиболее очевидная цель для Китая – Красная планета, Марс.
В мае 2021-го КНР стала второй страной (после США), запустившей марсоход. Аппарат получил имя «Чжужун» в честь мифологического Бога Огня (нужно сказать, что китайское название Марса буквально означает «Огненная Звезда»).
Тогда же китайские власти, окрыленные успехом «Чжужуна», заявили, что их перспективная цель – не просто исследование, а полноценное покорение Марса. Причем уже в следующем десятилетии.
Марсианская программа КНР разбита на три этапа. На первом из них предполагается запуск на Марс и возвращение обратно космических аппаратов с дроидами. Помимо прочего дроиды должны найти на Красной планете места, подходящие для обустройства постоянно действующей базы.
На втором этапе предполагаются пилотируемая миссия на Марс и строительство базы. Наконец, на третьем этапе – обустройство постоянного транспортного сообщения по маршруту «Земля – Марс», для чего, вероятно, по пути следования придется построить систему небольших космических станций, так называемую «Небесную лестницу» (условное название проекта – «Тяньти»). Первый полет к Марсу запланирован на 2033 год.
Сделаны эти громкие заявления были четыре года назад. Но за прошедшее с тех пор время Китаю пришлось сосредоточиться на решении не космических, а земных проблем – эпидемии коронавируса с сопутствующими ей локдаунами, тарифной войне с США, разрыве глобальных производственно-логистических цепочек. Вероятно, сейчас, в условиях вынужденной переоценки экономических возможностей КНР, амбициозные планы придется скорректировать.
С другой стороны, выход из надвигающейся рецессии китайское руководство видит как раз в развитии науки и технологий и их полномасштабной интеграции в производство (лозунг Си Цзиньпина о развитии «новых производительных сил»). Для этого Китай готов как тратить огромные средства, так и использовать все доступные административные рычаги, а их в системе, которая на приоритетных направлениях переводится буквально в «ручное управление», хватает.
Все это дает Китаю конкурентные преимущества относительно США. Для Америки покорение Марса также стало бы очевидным свидетельством того, что она great again, но реализация передовых космических проектов сейчас удел не только и уже не столько государства, сколько технологических суперкорпораций.
Так, глава SpaceX Илон Маск тоже анонсировал пилотируемый полет на Марс, причем состояться он должен даже раньше, чем китайский, – в 2028 году. (Автоматизированные полеты и Маск, и китайцы планируют на еще более ранний срок).
Иначе говоря, как и в середине ХХ века, идет космическая гонка двух сверхдержав. Ставки в ней высоки. Вероятно, как и в случае с советской программой на рубеже 1950–1960-х, успехи китайцев будут восприняты во всем мире как доказательство того, что «они побеждают».
А что же Россия?
Прошли времена, когда китайские ученые смотрели на достижения нашей страны как на передовые. Сейчас наиболее перспективные проекты КНР реализует самостоятельно. Примечательно, например, что Китай не участвует в международном сотрудничестве в рамках МКС – впрочем, не из-за того, что он так решил, а потому, что его вхождение в проект заблокировали США. Китайцам пришлось построить собственную орбитальную станцию, причем по некоторым характеристикам она оказалась даже лучше МКС.
На этом фоне сотрудничество с Россией в космосе нужно Китаю прежде всего по политическим и имиджевым причинам. Так, марсианскую программу Пекин реализует самостоятельно, а вот проект создания Международной научной лунной станции (МНЛС) – совместно с Россией. Причем, как подчеркивают стороны, этот проект открыт для всех стран мира.
О создании базы на Луне представители аэрокосмических агентств двух стран договорились в 2021-м. В следующем году было подписано соответствующее межправительственное соглашение. К настоящему моменту к проекту присоединилось уже 12 стран, включая ЮАР, Пакистан, Белоруссию и Турцию. Активная фаза строительства на Луне (или ее орбите – текст соглашения содержит такую оговорку) должна начаться в середине 2030-х.
Примечательно, что на Луне Россия и Китай планируют быть заодно. А вот конкурент там у них будет все тот же – Соединенные Штаты. Американцы еще в 2017 году запустили свою программу «Артемида» (Artemis), которая должна увенчаться строительством базы на спутнике Земли.
В общем, сравнение будущих достижений лунной и марсианской программы КНР покажет, как получается эффективнее – в сотрудничестве с Россией или в одиночку.
Автор – старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России